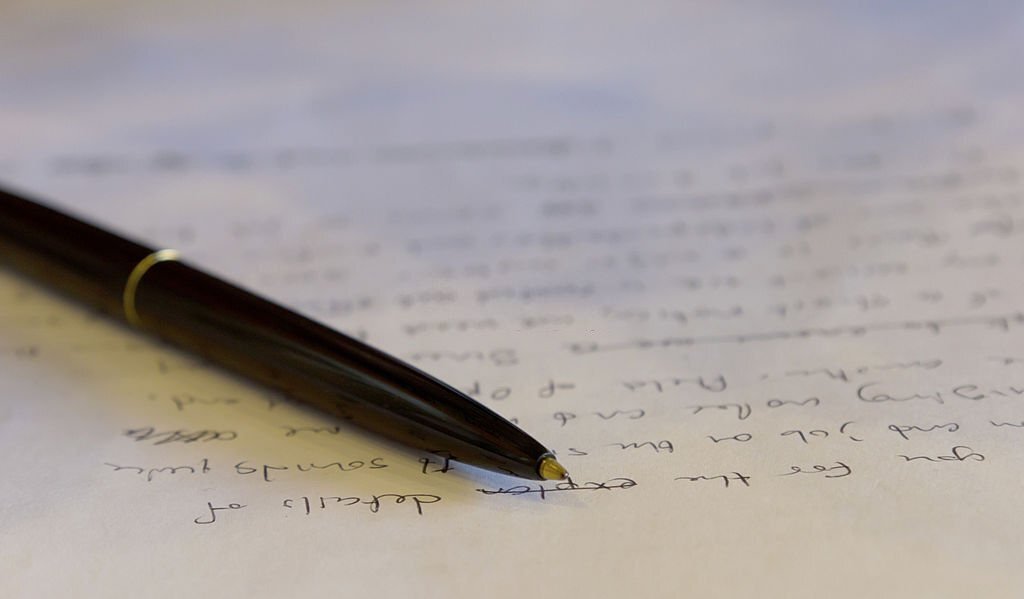18-й век также известен в интеллектуальной истории как эпоха Просвещения. Это был период, когда естественная наука завоевала уважение в интеллектуальных кругах, которым она пользуется до сих пор. Это была также эпоха относительного спокойствия и процветания в Европе. Это нашло отражение в его уверенной в себе литературе, написанной в сдержанном стиле и часто блестяще сатирической, а также обладающей энергичной ясностью, которая доставляет удовольствие при чтении.
Тем не менее, Просвещение сегодня часто рассматривается как гегемонистское движение, стремившееся навязать то, что оно считало своими истинами, нациям, в которых оно развивалось, а также всему остальному миру. Безусловно, в эпоху Просвещения были нетерпимые течения, но, как и в любом другом широко распространенном интеллектуальном движении, определяющем целую эпоху, в нем всегда найдутся мыслители, чей подход отличается от господствующего течения. Внимательное прочтение текстов эпохи Просвещения, написанных ее главными приверженцами, и особенно текстов Вольтера, который больше, чем любая другая фигура 18-го века, кажется, олицетворяет Просвещение, показывает, что основным подходом эпохи Просвещения был скептицизм по отношению к притязаниям на абсолютное знание. Более того, Просвещение — это эпоха интеллектуальной любознательности и открытости другим культурам.
Неудивительно, что так и должно быть. В конце концов, движение, которое проявляет скептицизм по отношению к абсолютистским притязаниям своих собственных традиционных властей, также будет скептически относиться к традиционной вражде, направленной против других культур и цивилизаций, вытекающей из этих притязаний. Таким образом, безусловно, верно, что Просвещение отмечено враждебностью по отношению к традиционному догматическому христианству, но это не означает, что оно само по себе является антирелигиозным движением. Поэтому неудивительно, что во времена Просвещения ислам и Османская империя, которая тогда была его величайшим географическим проявлением, впервые в европейской истории стали объектом незаинтересованности.
Просвещение, по-видимому, связано с другим мифом о том, что научный подход каким-то образом стал исключительным достоянием просвещенных европейцев того столетия и что те из других частей света, кто искал более научное решение мириадов окружающих их проблем, должны были отвергнуть все свои собственные знания и униженно пасть ниц перед высшей мудростью из Европы. Это правда, что может быть некоторое признание того факта, что в Средние века научный расцвет в исламском мире происходил под эгидой таких эрудитов, как аль-Буруни и Авиценна (Ибн Сина), но даже когда этот факт признается, идея заключается в том, что факел знаний от этого яркого этот период воспламенил Европу позднего Средневековья и Ренессанса, и, сделав это, его первоначальное пламя вскоре погасло само по себе. То, что принадлежало последнему, подпитываемое также его природными талантами, начиная с Коперника, превратилось в огненный столб как исключительное достояние этой цивилизации.
Первый портрет в этой серии знаменитых посетителей Турции является одновременно представителем эпохи Просвещения и упреком двум вышеупомянутым искажениям эпохи Просвещения, которые были изложены выше.
Английская аристократка леди Мэри Уортли Монтегю (1689-1762) стала ярой тюркофилкой, проведя много приятных месяцев в Стамбуле с весны 1717 года по начало лета 1718 года. Таким образом, ее визит совпал с эпохой – периодом тюльпанов, – которая сделала бы город еще более впечатляющим для посетителей, чем в более обычные времена. Причиной ее пребывания в городе было то, что ее муж Эдвард Уортли Монтегю, с которым она ранее сбежала, чтобы избежать брака по договоренности, был назначен послом Великобритании в Османской империи. Однако он не был слишком квалифицирован для этой должности, и именно поэтому историк Эндрю Уиткрофт описал Монтегю как “умную женщину, прикованную к скучному мужчине”.
С ее интеллектом связано ее любопытство. Монтегю пишет о себе так: “Я была бы согласна терпеть некоторые неудобства, чтобы удовлетворить столь сильную во мне страсть, как любопытство”. Одновременно она проявляет презрение к “маленьким умишкам”, у которых нет интересов за пределами их ограниченных сфер.
Мнения о Стамбуле, которые она сформировала во время своего пребывания там, известны нам, потому что эта путешественница, которая, по замечательному замечанию историка Ричарда Стоунмана, была одновременно “интересной” и “заинтересованной”, оставила после себя серию блестящих писем. Хотя ее письма, которые были опубликованы через год после ее смерти, охватывают большую часть ее жизни, утверждается, что самые важные из них написаны из Стамбула. Следует также отметить, что, как показывает историк Филип Мансел, письма не содержат покровительственного ориенталистского отношения, а скорее показывают, что Монтегю — непредубежденный человек. Таким образом, он резюмирует письма как восхваляющие “легкость и элегантность османской жизни, практические преимущества ислама” и “свободу мусульманских женщин”.
В первом письме, которое Монтегю пишет из Стамбула, она рассказывает, какой чудесный вид открывается из ее резиденции в Пере. Она утверждает, что это “возможно, в целом самая прекрасная перспектива в мире”. Однако такое впечатление на нее производит не только красота городского пейзажа. Она также отмечает, что “молодые женщины” — “все красавицы, и их красота значительно улучшается благодаря хорошему вкусу их одежды”. Действительно, женская красота женщин Турции — повторяющаяся тема в ее письмах. Наравне с другими ее сравнениями между ее родиной и Стамбулом, в которых первое выглядит хуже, она положительно сравнивает внешность женщин в Стамбуле с внешностью женщин в Англии.
Она делает комплимент одной турецкой даме, которая навещает ее, говоря ей, что “какой шум наделало бы такое лицо, как у нее, в Лондоне или Париже”, а в ответ эта дама говорит, что “если бы в вашей стране так ценилась красота, как вы говорите, они бы никогда не позволили вам покинуть ее”.
Может показаться, что до сих пор этот очерк Монтегю слишком сильно опирался на ее интересы к тому, что в буквальном смысле является поверхностной темой, и как таковой не делает чести ее репутации значимого писателя. Однако интерес Монтегю к цвету лица и ее очевидное удовольствие от того, что ее хвалят за ее собственную внешность – хотя она, безусловно, скептически относится к комплиментам – представляют интеллектуальный интерес, если их правильно интерпретировать в контексте.
Во время ее путешествий оспа оставалась бедствием во многих частях мира. Это было особенно смертельно для детей. На саму Монтегю это повлияло двумя разными способами. В 1713 году она потеряла из-за этого своего младшего брата, затем, в 1715 году, примерно за полтора года до отъезда в Стамбул, она сама заразилась, и хотя выжила, у нее остались оспины на лице и выпадение ресниц. То, что Монтегю была навсегда обезображена болезнью, несомненно, объясняет ее восхищение красотой незараженных турецких женщин, с которыми она столкнулась во время своего пребывания в османских землях. Но, что более важно, это также, несомненно, вдохновило ее на горячую решимость в том, что ее дети никогда не будут страдать от этого так, как страдала она.